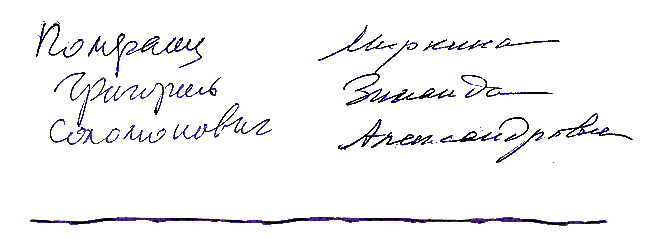
МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
БОРИС ЧИЧИБАБИН в стихах и прозе И все-таки я был поэтом...
Да будут первыми словами этих моих раздумий на бумаге, которые сам не знаю куда меня заведут, слова благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми — Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо! Незадолго до этого я, как, впрочем, многие тогда из моего поколения, пережил великую и грозную духовную катастрофу, утрату того, что долгие годы было для меня ценностями и святынями. Земля уходила из-под ног, перед глазами разверзалась бездна. От самоубийства или помешательства меня спасла любовь к женщине, которую зовут Лиля и с которой я с тех пор не расстаюсь. Вместе мы прочитали какие-то случайно дошедшие до нас в Харьков статьи Григория Соломоновича, Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми. Если он остается в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью. Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы вьющийся по спирали двухголосый монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, Для удобства восприятия и ради большей полноты, разделившегося на два телесных — женский и мужской — образа. Таким же счастьем было слушать Зинины стихи. К тому времени она уже давным-давно страдала какой-то страшной, неизлечимой, разрушительной болезнью, доставлявшей ей во время приступов такие нестерпимые муки, что она, терпеливица, смиренница, молитвенница, порой просила Бога о смерти. Но между приступами, когда к ней приходило вдохновение, стихи изливались из нее безудержным, неиссякаемым потоком, иногда по нескольку стихотворений в день. Это было вроде давидовой Псалтыри или, еще лучше, единой непрестанной молитвы со множеством разветвлений и вариаций. Ни до, ни после я не встречал такого интенсивного, одержимого, обильного творческого процесса. Это было похоже на чудо, в моем представлении так творили Микеланджело, Бах, Моцарт — великие гении и послушные «Божьи ремесленники».
В этом доме на Рождество устраивалась елка,— но что это была за елка! Специально для нее Зинаида Александровна писала сказку, каждый год — новую, так что теперь из этих рождественских сказок пора бы составить большую чудесную книгу, которую хотелось бы прочитать и детям, и взрослым. Елка затейливо украшалась персонажами и образами написанной сказки. Ее ставили в ведро с мокрым песком, она стояла неделями, долго, для того чтобы на нее можно было пригласить друзей с детьми, близких, знакомых, всех, кто хотел послушать сказку, а таких всегда было много, а комнатка — маленькая, и таинство повторялось несколько вечеров. Тушился свет, Зина тихим, сосредоточенным, как будто прислушивающимся к чему-то и повторяющим не свои, а чьи-то услышанные слова, голосом — так она и стихи читала — начинала рассказывать сказку. Гриша колдовал с выключателями. Загорались лампочки, освещающие разные кусочки елки, те сценические площадки с человечками, гномиками, зверушками, ангелами, звездами, предметами из рассказываемой сказки, на которых разыгрывалось ее действие и которые попеременно требовались по ходу действия. Сказка была с приключениями и тайнами, с ненавязчивым религиозным смыслом, долгой, высокой, доброй, празднично-светлой, как рождественская елка. Сколько людей побывало на этих вечерах, прослушало Зинины сказки, сколько детей, уже давно ставших взрослыми, научились из них правдолюбию, солидарности, благородству, добру! Мало кто из них остался на родине, но я убежден, что тот, кто хоть раз побывал на Зининой елке, не забудет ее, благодарный, пока живет на земле. Она-то, Зинаида Александровна, и подарила мне свою любимую молитву. То есть не подарила, конечно, просто рассказала в одном из писем, какая у нее есть любимая молитва, а это я уже сам принял ее на всю жизнь как самый дорогой подарок, как святой дар. Молитва эта такая: «Господи, как легко с Тобой, как тяжко без Тебя. Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» Я думаю сейчас: всем бы нам повторять эту Зинину молитву. Не жить по ней (кто же и когда жил по ней в нашем-то мире?), но хотя бы повторять, помнить, знать, что есть такая молитва, думать об этом. «Да будет воля Твоя, а не моя!» Я думаю, что то, что вложено в эти слова, должно быть понятно и близко каждому, в ком есть душа и разум, каждому способному «мыслить и страдать». Еще недавно в нашей стране большинство населения были атеисты. Наверное, и сейчас многие не верят в Бога, не могут или не хотят поверить. Я с величайшим уважением отношусь к вере или неверию любого мыслящего существа. Для меня дело не в слове «Бог». «Да будет воля Твоя, а не моя» — это должно быть, по-моему, и атеисту понятно, если он посмотрит вокруг себя, а заодно и в себя заглянет и задумается. Все знают библейский миф о первородном грехе и утраченном рае: люди отступились от Бога, обманули и покинули Его, променяв райскую гармонию на беззаконие и бессмыслицу соблазненного своеволия. Это происходит на наших глазах каждый день. Но и тоска по утраченному жива в сердцах, если они еще живые. «Твоя, а не моя» — это признание той неоспоримо очевидной истины, что в мире есть нечто более правильное и верное, чем воля, хотение, произвол отдельной личности или группы людей, общества, государства, что мир в своем существовании, вся наша жизнь подчинены высшим нравственным законам, более естественным, могущественным и постоянным, чем все экономические, политические, правовые, государственные и прочие законы, придуманные человеческим своеволием. Уклонение от этих вечных и непреложных законов опасно и болезненно, каждый из нас испытал это на себе, а прямое нарушение их приводит к смертоносным и всеразрушительным последствиям. Говоря проще и короче, «Да будет воля Твоя, а не моя» — это признание того, что жизнь не может быть чем-то случайным, хаотичным, неуправляемым, что в жизни нашей должен быть смысл, что в ней есть смысл.
Я не знаю, что такое Бог, так же как не знаю, в чем смысл жизни. Я считаю себя не вправе рассуждать об этом, Да полагаю, что и никто не вправе. Просто, как на исповеди, хочу признаться, что для меня Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в глубине моей, но в такой непостижимо дальней, в такой невообразимо сокровенной глубине, когда она, не переставая оставаться моей личностной глубиной, моим невозможно-идеальным, никогда в реальности не осуществимым, совершеннейшим «я», Божьим замыслом меня, свободным от искажений жизни и судьбы, становится уже и глубиной другого человека, и всех людей, живущих и живших на земле, и не только людей, но и животных и растений, тополя за окном, березки, посаженной Лилей четверть века назад и растущей перед нашим балконом. И еще я знаю, что Бог один — у православных и католиков, у христиан и иудаистов, у мусульман и буддистов, у верующих и неверующих. И пребывает Он в Вечности. Вечность, вечная жизнь, в моем представлении и понимании, это не то, что будет когда-то, не то, что, скажем, ожидает нас после смерти, а то, что, в отличие от проходящего времени, Не проходит, а есть — есть всегда и сейчас. Живя во времени, в 1994 году, сегодня, мы, временные, смертные люди, какими-то своими мыслями, чувствами, поступками и вечности причастны, и вечности принадлежим. Вообще же, в моих мыслях об этом, о Боге, о вечности, в моем знании, что Он есть, в моем чувстве присутствия Его в мире и в моей собственной душе, в моем отношении к Нему, в моих отношениях с Ним все полно тайны, недосказанности и абсолютной уверенности в том, что это знание, это чувство, эти отношения и составляют Главное в жизни каждого человека, во всей мировой жизни. Думаю, что было время (сужу по книгам, по преданиям, по памятникам культуры, по самой культуре, в конце концов), когда большинство живущих людей знало про это Главное и в жизни своей руководствовалось этим знанием. Конечно, и тогда в жизни было много темного и страшного, и тогда среди людей были и властолюбцы, и мошенники, и распутники, и воры, и убийцы; и все-таки про это Главное знали все, и знали, что это и есть Главное. Знал каторжник, осужденный за тяжкое преступление, за насилие, за убийство, и знала крестьянская женщина, подававшая ему милостыню — кусок хлеба или денежку,— все знали, каждый знал. В человеческих душах, невежественных, непросвещенных, жило представление о добре и зле, понятие греха и покаяния. Совершая преступление, дурной поступок, люди знали, что они совершают грех против Бога (или, если они не верили в Бога, против совести, справедливости, неписаных нравственных мировых законов, против смысла и лада жизни), в конечном итоге против жизни, и что грех этот влечет за собой «Божье наказание», требует искупления. С этим знанием жили десятки поколений людей,— я убежден в этом: я не могу не верить любимым книгам, истории, мировой духовности, которая вся на этом зиждется. И вся беда и весь ужас нашей сегодняшней жизни, вся ее тьма и тяжесть и состоят в том, что из жизни ушло Главное и сама жизнь поэтому лишилась значения и смысла, цельности и подлинности.
Пока человек живет на земле, он не может быть свободен от земных, повседневных, житейских забот. Никакой Бог не может этого требовать. Но, живя сегодняшним, люди помнили о Вечном. У них были непреходящие ценности и святыни, которыми они и мерили свою жизнь. Кроме понятия греха, было понятие суеты. Не знаю, когда и как это случилось с нами, но мы в нашей жизни подменили Главное если не прямо ложным и мнимым, то уже точно второстепенным, суетным, отвлекающим, мешающим, запутывающим. Беда не в повседневности, не в быте,— от них никуда не денешься,— а в том, что, когда мы перестали думать о Главном, повседневность, быт, суета заняли в нашей жизни главное и единственное место. Все наши мысли и чувства заняты политикой, карьерой, зарплатой, вещами, тряпками, склоками, званиями, поисками виноватых, сведением счетов — преходящим, бренным, сиюминутным, лишенным и высоты, и глубины, и света, и возможности какойто гармонии. Ну, давайте представим, что нам сказали, абсолютно достоверно, неусомнительно точно, что послезавтра в три часа дня мы умрем, нас не станет,— неужели эти оставшиеся нам часы мы так бы и продолжали жить, со всем этим, со всей нашей ложью, алчностью, завистью, враждой? Да не может же быть! Вот тогда бы, по-моему, с нас и сошло бы, и спало бы все неглавное, невечное, неподлинное и осталось бы то, что в нас задумал Бог и чем мы должны предстать перед Ним, и осталось бы Главное. Но ведь мы и так знаем, что когда-нибудь умрем,— почему же не опомнимся, не задумаемся, не вспомним о забытом и утраченном? Давайте вспомним, попробуем вернуть Его в нашу жизнь, вот в такую, какая она есть сегодня,— со всеми неурядицами и смутами, с грызней в очередях и пустыми полками магазинов; я верю: мы увидим, как она сразу изменится; озарится, освятится добром и смыслом.
Я думаю, что для человека гораздо невыносимее, страшнее и мучительнее любых испытаний, лишений и мук сознание того, что эти испытания, лишения и муки не имеют смысла, сознание их напрасности и случайности. Для мыслящего существа бессмыслица его жизни в бессмысленном мире страшнее смерти, ужаснее небытия. Но вот в сплошной и враждебной душе бессмыслице сегодняшней жизни, где небывало обильный урожай остается несобранным, а безвозмездно-щедрые дары богатых соседних народов по нерасторопности и дурости пропадают в дороге, во всем этом абсурде и хаосе вдруг видишь прекрасный храм, слышишь музыку Моцарта или стихи Пушкина,— и душа получает утешение, обретает надежду и веру: не может быть бессмысленным мир, в котором есть такие нетленные сокровища человеческой духовности. И я опять повторяю Зинину молитву: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» По-моему, мировая культура есть нагляднослышимо-осязаемое осуществление этой воли, во всяком случае, вслушивание в нее, ее исполнение и утверждение. Культура принадлежит вечности и каждого из нас приобщает к Вечной жизни. Поэтому, когда я слышу и, мало того, сам повторяю слова о кризисе культуры, об упадке культуры, я чувствую их неточность и то, что они основаны на недоразумении. Конечно, в нашем сознании существует понятие культуры того или иного народа, общества, региона, той или иной эпохи, но ведь существует понятие единой мировой культуры, в которой ничто не отмирает и не отменяется. Кризис или упадок может переживать человеческое общество, но не культура. Сменяются экономические системы, гибнут империи — культура остается. Люди могут отказаться от Бога, но Бог не может отказаться от людей. Можно закрыть глаза и уши, души и сердца, можно не слышать зова, но он-то все равно звучит, пусть для немногих, пусть для никого — кто-то да услышит, откликнется, отзовется. Мы все повторяем слова Достоевского о красоте, которая спасет мир. Культура и есть эта спасительная красота, включающая в себя и добро, и истину. Ведь она — не только книги, храмы, музеи, философия, музыка, живопись, она, в еще большей мере, тот свет, который все это оставляет в наших душах. Культура — это и наше поведение в жизни, и наши отношения друг с другом, наша дружба, любовь, терпимость, способность к созиданию и милосердию, наше чувство ответственности. Если нас не спасет культура, нас больше ничто не спасет.
Попутно не могу не отметить, что в противоположность культуре, являющейся в моих глазах чем-то близким тому, что верующий определил бы как проявление Божьей воли, то, что мы называем цивилизацией, есть, по-моему, как раз уклонение от этой воли, ее искажение или нарушение, основанное на человеческом своеволии. Если культура — это воистину смысл, свет, гармония жизни, то цивилизация — ее бессмыслица, суета, разлад и разложение. В то же время между ними есть таинственная и сложная связь, удивительно, до смеха и ужаса похожая на отношения главных антагонистических героев мудрой сказки Андерсена (и пьесы Евгения Шварца)*. Как ученый и его тень, так и культура и цивилизация не могут, видимо, существовать одна без другой. Как в сказке цивилизация вынуждена считаться с культурой, даже помогать ей, быть все время вместе, неразлучно, и, как в сказке, цивилизацию иногда принимают за культуру. По-моему, не нужно доказывать, что в таких понятиях, как «массовая культура», «рок-культура», «молодежная», «пост-модернистская» и всякая «другая культура», слово «культура» совершенно ошибочно и излишне и что к культуре эти понятия никакого отношения не имеют. Хотя бы потому, что они зависят от обстоятельств, от времени, от моды и на них рассчитаны. Рожденные безбожным человеческим своеволием, они враждебны и разрушительны для души и духа, но, по счастию, недолговечны, и влияние их легковесно-поверхностно и несерьезно.
«Да будет воля Твоя, а не моя. Господи!» Так может молиться только свободный человек. Культура невозможна без абсолютной внутренней свободы тех, чьим делом и достоянием она стала. Но и свобода без уважения к культуре, без воспитанного культурой чувства достоинства и ответственности есть абсурд и дикость, производные от «бессмысленного и беспощадного» рабского бунта, то же рабство, только вывернутое наизнанку, нечто невообразимое и страшное. Не с отстраненным и грустным безразличием и уж, конечно, не со злорадством, а с великой тоской и болью задыхающегося и истекающего кровью сердца писал замечательный русский писатель, мудрец и мученик, Василий Гроссман о том, что «русская душа — тысячелетняя раба», что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России — ростом рабства. И как бы ни проклинали его за эти «исступленные нападки» на русский народ наши «духовные пастыри»,— как будто можно быть большим патриотом и народолюбцем, чем воевавший под Сталинградом Гроссман,— лучшим доказательством его горькой и мучительной правоты является не только то, что, получив в последние пять лет всевозможные и не снившиеся нам прежде политические, гражданские, «внешние» права и свободы и завоевывая на митингах и съездах все новые и новые, мы не знаем, что с ними делать, и, оставаясь внутри рабами, ведем себя как рабы, неспособные к свободному и ответственному труду, нетерпимые, завистливые, мстительные, недобрые, но и то, что именно сейчас из нас, а уж в первую очередь из них, из «пастырей» наших «духовных», и особенно из самых «чистокровных» и «самородных», так и полезла наружу рабская наша вражда к мировой культуре, не просто неприязнь или нелюбовь, а едва ли не ненависть. Рабом, если он привык к своему рабскому состоянию, в известном смысле быть удобней и легче. «А разве плохо быть рабом?» — очень искренне и совершенно серьезно спросил мою жену ее сотрудник по работе в проектном институте. Должен признаться, что это совсем не такой уж простой вопрос.
Есть мысли, которые становятся для нас руководством на всю жизнь. Такой мыслью стало для меня вычитанное у любимого Бердяева мудрое, благое и точное противопоставление религиозного, благородного и плодотворного чувства вины, присущего свободному человеку и приводящего к покаянию, искуплению, воскрешению,— рабскому чувству обиды, безбожному, низменному и губительному, рождающему новые обиды и неостановимое бесконечное зло. А мы все сегодня полны и только и живем этим страшным рабским чувством. Когда один из самых культурных и уже поэтому один из немногих истинно свободных людей в стране — Дмитрий Сергеевич Лихачев призвал нас всех к покаянию,— Господи, как возмутилось в нас это чувство: пусть палачи и насильники каются, разрушители храмов, голодоморы, казнокрады, начальники, аппаратчики, а нам-то в чем? Мы непричастны, мы в стороночке, сами обиженные, жертвы, винтики. Да вот в том, что были винтиками, и покаемся! Академик Лихачев, чудом избежавший расстрела на Соловках, не считает, что ему не в чем каяться, не снимает с себя вины за все зло, всю Ложь, все грехи своего времени и государства. И академик Сахаров не снимал. И те семеро, что вышли на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, не снимали и не снимают. И кто в лагерях да психушках при Брежневе сидел, не считают себя героями, винятся, каются. В том, что жили в такое время, в такой стране и, значит, не могут быть непричастны ко всему, что творилось тогда, да и по сей день творится, не могут не разделять вины и ответственности за все, что делалось и делается, было и есть. Да так всегда и велось на свете: чем душа праведней, тем она сама себя и считает грешней и виноватей, тем больше ей есть в чем покаяться, а мнили о себе, что не в чем, те, кто понаглей да поподлей, ну разве что еще дурачки по слепоте да недомыслию.
Нет, не изжили мы в себе рабов и, Бог весть, изживем ли. Культуру мы и сейчас сплошь и рядом подменяем идеологией, к тому же тоталитарной, упрощенно воинствующей, все богатство, всю сложность духовной жизни со всеми противоречиями, оттенками, версиями сводящей к двум полюсам: богатые и бедные, белые и красные, а «кто не с нами, тот против нас». И оттого что полюса эти противоположно поменялись, ничего в нашей рабской непримиримости не изменилось. Вчера мы все поголовно были «красные», в детские годы любили Гайдара (а ведь он действительно прекрасный детский писатель), потрясались фильмом о Чапаеве (а ведь это действительно великий фильм), собирали в своих библиотеках лучшие книги из серии «Пламенные революционеры» (а ведь в этой серии были хорошие книги, для нее писали Трифонов и Эйдельман, Давыдов и Окуджава, Аксенов, Войнович, Гладилин),— сегодня мы все «белые», да еще и такие, что белее и быть невозможно, поем песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском, с умилением поминаем всех без разбора русских царей, возрождаем традиции русского дворянства, и любимый герой у нас Столыпин с его идеей «великой России», и во враги этой «великой России», а значит, и в свои враги мы зачисляем не только Ленина с большевиками, но и всех революционеров и либералов, начиная с Радищева, да и чуть ли не всю русскую литературу. А ведь русское бунтарство, скоморохи, еретики, раскольники, Болотников, Разин, Пугачев, Булавин, как и русская революционная мысль — Радищев, декабристы, Герцен, народники — это ведь тоже русская традиция, наше наследие. Что ж это у нас за судьба — вечно от какого-то наследия отказываться? Вчерашние поголовные атеисты, сегодня мы скопом бросаемся в православную церковь, опять-таки не с покаянием, а за утешением и помощью, не подозревая того, что путь веры и трудный, и тернистый, и уж в любом случае индивидуальный, личностный, свободный и ответственный путь. Не просить и ждать от Бога помощи, милости, чуда, а «помочь Богу нужно»,— говорит Зина Миркина, и правильно, по-моему, говорит. Разуверившись в наших любимцах и лидерах, устав от их парламентской и митинговой болтовни, поняв-таки, что они такие же рабы, не истины алчущие, не добра возжаждавшие, а воюющие друг с другом за свою правоту, за свой верх, за свою власть над душами, в предчувствии беды мы по-прежнему ждем выхода и спасения от кого угодно и чего угодно, но только не от самих себя. Рабы, никогда не знавшие радости свободного труда, свободного деяния, мы, может быть, и хотели бы, да не умеем, не можем, не знаем, как приложить руки и душу к какому-то конкретному живому делу, которое хотя бы чуть-чуть изменило к лучшему положение в доме, в селе, в городе, в государстве, хотя бы на немного улучшило и осмыслило нашу жизнь.
Не нужно идти за толпой, растворяться в массе,— к этому нас уже призывали. То, что верующий называет Божьей волей, только в тишине, только в личной сосредоточенности можно услышать. Бродский сказал в нобелевской речи, что человечество спасти уже нельзя, поздно, но отдельного человека — никогда не поздно, еще можно и должно спасти, и мне это очень близко и дорого. Только с отдельного человека и начинается пробуждение, воскресение, спасение, только так и начинается всякий путь. И если мир спасется, то только так — через личность. Не представляю, чтобы к истине можно было прийти «соборно». А у нас — как? Вот Бухарин ругал Есенина — значит, напрасно мы его реабилитировали, поскольку он враг России и русского народа. Маяковский не любил Булгакова — значит, он еще хуже Сталина и тоже враг народа. Да не могли Бухарин любить Есенина, а Маяковский — Булгакова, это же понятно и естественно. И что это за установка, что всякий русский должен любить Есенина и Булгакова, а если кто не любит, так тот и не русский? Даже о Пушкине, как ни хочется, нельзя так сказать. Толстой Шекспира не любил, Ахматова — Чехова,— это печально, но это их дело, и ничего тут не скажешь. Великая личность — явление неоднозначное, сложное, меняющееся во времени. Сейчас у нас в стране антиленинское поветрие. За семьдесят с лишним последних лет нашей народной жизни накопилось столько зла, которое в нашем сознании, справедливо ли, несправедливо ли, связано с этим именем, что разобраться в этом очень непросто. Для нас сегодня что Сталин, что Ленин, что Маркс — во всех них мы видим виновников нашей русской беды. Вряд ли это может быть правдой. Мы и в слове «социализм» не слышим сейчас ничего хорошего, а между тем идеи социализма, идеи социальной справедливости будут жить на земле, пока живо человечество, это и Бердяев знал. Но только Ленин, по-моему, был еще и очень русский человек, очень русский путаник, и хотя и считал себя марксистом, но и социализм у него был не марксовый, а очень русский. В душе Ленина вполне по-русски попыталось совместиться несоединимое — русский бунт и русский порядок, великий революционер и великий государственник, что-то от Разина и что-то от Петра. В революции он шел за массой, за стихией, вероятно, потому и сумел обуздать ее и прибрать к рукам, крови на нем много, но в конце жизни что-то же надоумило его сделать и спасительный и благодатный для народа поворот к нэпу, и, если бы ему еще пожить, все эти семьдесят лет совсем по-другому сложились бы и обернулись,— политик-то он был гениальный (если в политике возможен гений). Умирать ему, должно быть, было страшно: вероятно, он многое понял и сам себе ужаснулся. Во всяком случае, со Сталиным я его никогда не равнял и равнять не могу.
Так же, как от Ленина, сейчас мы с обоих краев, и правые, и левые, в один голос отрекаемся от Октябрьской революции. Дескать, революция эта в историю нашу попала случайно, по ошибке, и хорошо бы эти страницы из истории выдрать, как будто их и в помине не было, да и не народная это революция, а историческое недоразумение и преступление, переворот, сотворенный кучкой злоумышленников, преимущественно нерусского происхождения. Да чушь все это! Великая русская революция вовсе не начинается, и не кончается, и не исчерпывается октябрьским переворотом, который, может быть, и был осуществлением заговора, кстати, довольно бескровным. Но не могла кучка злоумышленников всю Россию всколыхнуть: от брошенных солдатами окопов на Западе до самых глухих и отдаленных окраин, до самого Тихого океана. Значит, накапливались непростимые народные обиды, чтобы разом прорваться в великую и страшную четырехлетнюю братоубийственную войну. Тому и свидетель есть непогрешимый и неподкупный, которому невозможно не верить,— великая русская литература. Или уже не слышим Некрасова? Не слышим Щедрина? А если, повинуясь времени и моде, мы этих «смутьянов» уже отлучили от русского гражданства, изъяли из наследия нашего, то что ж — и великого Толстого не слышим, кого слышал весь мир? И Достоевского не слышим, которого сейчас сами на каждом шагу поминаем? Вспомним, перечитаем в «Карамазовых» разговор в трактире Ивана с Алешей, историю про то, как крепостного ребенка помещик собаками затравил. Вот они — причины и истоки революции нашей. Перечитаем Александра Блока, самого чуткого, самого искреннего, самого прозорливого русского поэта XX века, стихи его из третьего тома — о «Страшном мире», о «Возмездии» — и его статьи того времени. Или и Блоку не верим? Тогда перечитаем Бунина, ненавидящего революцию,— знаменитую «Деревню». Ведь очевидно же, что все в России шло и вело к революции, и не только с начала века, но и гораздо раньше, что не могла она не разразиться, не свершиться в этой стране, в нашей многогрешной России, и именно такой — великой, грозной, кровавой, стократным «бессмысленным и беспощадным» повторением разинщины и пугачевщины. Сегодня уже невозможно славить революцию, прощать ей ее преступления не в человеческих силах. Когда читаешь о всех ужасах «красного террора», да и белого тоже, когда пробуешь представить, как живых людей в землю зарывали, как живых в паровозные топки бросали, как живых пилами распиливали, кажется, с ума сойдешь, сердце не выдержит — разорвется или остановится. Конечно, «не приведи Бог» — не с Пушкиным же спорить,— конечно же, великое преступление и великий грех. Но ведь и великая трагедия, великая кара, великое возмездие тем, против кого она была направлена и кто в ней повинен, как предсказывала и предупреждала русская литература, как понимал все тот же Бердяев, по крайней мере, ничуть не меньше тех, кто ее осуществлял. И недаром же Пушкин во всей русской истории, наряду со всегда привлекавшим его Петром, больше всего как раз и интересовался Разиным да Пугачевым.
Хотим мы того или не хотим, а революционное сознание, революционное чувство, сама революция со всем, что ею порождено и ей сопутствовало,— это тоже наше наследие, к тому же самое близкое и прямое, самое кровное, самое живое, и не все в этом наследии — зло и грех, есть и добро, и подвижничество. И ведь то, во имя чего произошла революция, прекрасно и свято, ведь лозунги ее, обещания ее человечны и привлекательны: «мир народам, власть Советам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим»,— разве это безбожные призывы? Мы только сегодня беремся их в жизнь воплощать, ведь и наша «перестройка» задумывалась и начиналась как продолжение революции,— значит, живы ее замыслы, может быть, сможет она искупить свои грехи? Может быть, и впрямь не кончена она на страшном и стыдном, может быть, впереди у нее преображение и искупление? Ведь было же, пусть на очень короткое время, весь мир потрясшее революционное искусство 20-х годов, замечательные фильмы, замечательная музыка. Многие великие революции прошли через террор и диктатуру, но со временем отстоялась кровавая муть и замыслы их воплотились во что-то разумное и доброе — и празднуют французы 14 июля, день взятия Бастилии, как самый великий свой национальный праздник. Но нас призывают забыть революцию, отказаться от ее идеалов, сделать вид, что не было ее в России, одни — для того чтобы вернуться к старому, к тому, что было у нас до 17-го года, к монархии, к империи единой и неделимой, другие — для того чтобы строить что-то с самого начала «по чужому образцу», «на голом месте». Это все от несвободы, от безответственности, от бескультурья нашего. Не берусь судить, как жилось русскому народу до 17-го года, так ли хорошо и благополучно, как сейчас нам по телевизору рассказывают, или так тяжело и безобразно, как описали Бунин в «Деревне» и десятки других писателей меньшего калибра, в том числе и крестьянских, но знаю, что вернуться к этому старому, уже несуществующему, или каким-то образом вернуть его на совсем другую, новую землю просто нельзя, невозможно, как невозможно и нельзя что-то создать, построить из чужого или придуманного материала, из пустоты, из ничего. Ни то, ни другое никогда никому не удавалось.
Политико-экономические преобразования, начинавшиеся девять лет назад в нашей стране, я, как и большинство ее населения, встретил с надеждой, радостью и восторгом, тем более, что начались-то они для меня с безусловно хорошего и доброго: вернулись из лагерей и тюрем мои Друзья и знакомые, был возвращен из ссылки академик Сахаров. 25 лет, по сути всю мою творческую жизнь, я был отлучен от литературы, от читателя и слушателя, а тут мои стихи стали печатать — это ли не радость для поэта? Но беда не в том даже, что эти преобразования осуществляются не так, как о них мечталось, как они задумывались, а в том, что и задумывались-то они без мыслей о Главном, без той Зининой молитвы, о которой я так много говорил в этих размышлениях. Великое дело — освободить души сотен миллионов людей от казенной лжи, от государственного насилия, от ненужных, смешных и нелепых запретов; еще важнее, наверное, наполнить товарами полки магазинов, Приблизить материальный уровень нашей жизни к тому, как живут люди во всем мире, но ведь не может же быть, чтоб в этом был смысл жизни, чтоб это было исполнением того, что верующий называет Божьей волей. Ведь надо же когда-то подумать о Главном, о душе, о духе, нельзя же без конца откладывать. Я скажу страшное: и в нашем «религиозном возрождении», в нашем обращении к церкви не вижу я этого Главного. Когда я смотрю и слушаю по телевизору многолюдные и пышные богослужения, и где-то тут, на переднем плане, наши президенты, премьеры, мэры, использующие церковь для создания своего нового «имиджа», стоят со свечечками в руках, мне становится неловко и жутко; по-моему, это безбожно. Прекрасны наши русские храмы и прекрасны русские хоры, но в этой пышности мне было бы трудно обрести и услышать Бога, скорее — в лесу, среди зеленых трав и деревьев, или на пустынном берегу моря, где никто не мешает. В Москве, в Петербурге, во многих наших городах по улицам слоняются молодые люди, юноши и девушки, на глазах распутничают, сквернословят, дерутся, издеваются над прохожими, а на груди у каждого — православный крест. В общественном транспорте места старому человеку не уступят, еще и обматерят, а тоже с крестом. Завтра они пойдут стадом громить, убивать евреев, коммунистов, интеллигентов, «врагов России», может быть, даже с иконами и хоругвями, было же и такое в нашей истории. Убили же Александра Меня — ничего, сошло, а убиенного царя собираются канонизировать как святого. В киосках и на лотках рядышком лежат иконки, крестики, молитвенники — и эротические открытки и порнографические книжонки. Все это стыдно и гадко. И непредсказуемо-ужасно невероятное, немыслимое, кощунственное и в то же время абсолютно понятное и даже, вероятно, неизбежное объединение коммунистов, самых косных и твердолобых, и церковников, монархистов, черносотенцев. Но, во-первых, как сказал поэт, «они всегда договорятся»: интересы-то одни, имперские, кровные, шкурные, а, во-вторых, чего же было и ждать в неразберихе и бессмыслице нашей жизни, при нашей несвободе, некультурности и бездуховности. А вот «нам» с «ними» вряд ли можно «договориться», и вряд ли нужно, и вряд ли этого от нас хочет Бог. Правда, когда в открытом море гибнет и идет на дно корабль и люди бросаются спасать детей, женщин, самих себя, в те минуты и часы они не думают, кто из них коммунист, кто монархист, кто фашист, и действуют сообща, вместе,— вот разве так. Но ведь это случай экстремальный, предсмертный. Возможно ли так в нашей сегодняшней жизни? Согласно Божьим заповедям, нужно, должно ненавидеть грех и любить грешников, не принимая зла, противясь ему, любить злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестер. Я знаю, что это так, знаю, что так нужно и должно, но понять это ни умом, ни сердцем не могу, тем более не могу применить это в жизни. Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. Знаю, что это мой грех, мое несовершенство, моя вина, мое несчастье, но я не могу и вряд ли хочу мочь. Да «объединиться» с ними значило бы «объединиться» с их взглядами, которые, в моем представлении, являются злом; не с ними, как с людьми, а именно с тем, что они проповедуют, к чему призывают, значило бы полюбить не грешников (в отношении некоторых из этих людей это как раз легко было бы сделать), но сам грех, принять на душу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога. Думаю, что это ненужно, нельзя и невозможно.
Долгие годы, да что годы — века, мы, русские, утешали себя да, кажется, и сейчас пытаемся утешить себя мыслью о какой-то особенной русской духовности, об особенной нашей, в отличие от всех других народов и стран, близости к Богу. Пусть у нас кровавая и нелепая история, пусть другие страны и народы богаче нас, материально благополучнее и благоустроеннее, зато мы превосходим их какой-то «особенной» статью, некоей мистической «всемирной отзывчивостью», богопослушностью и богоизбранностью. Мы даже гордились своей темнотой и бедностью, по крайней мере, видели в них какое-то знамение: «убогий» значит «у Бога»,— вот мы какие: мы у Бога, мы ближе всех к Богу. Я был очень мало за границей — несколько дней в Италии, несколько дней в Германии, мне трудно судить о духовности живущих там людей, скорее всего, и они не вспоминают о Главном в своей повседневной жизни. Но и за несколько минут можно разглядеть,— это сразу и самое первое, что бросается в глаза,— что они все свободнее, спокойнее, приветливее, благожелательнее наших людей. Очень может быть, что они менее духовны, чем мы, этого сразу не увидишь, но они, в отличие от нас, например, очень внимательны и заботливы к своим инвалидам и старикам, к бедным и немощным. И я, грешным делом, никак не могу понять, как нашу «всемирную отзывчивость» и духовность, как нашу близость к Богу можно совместить с нашим невежеством и пьянством, с нашим рабским равнодушием и воровством, с нашей раздражительностью, нетерпимостью, жестокостью, бессовестностью. Я уж не говорю о нашем богомерзком сквернословии, о нашем сплошном российском мате, который сейчас — дожили-таки! — хлынул и на печатные страницы, и на экраны телевизоров. Не есть ли это очередной и уже, наверное, последний русский миф? Ведь если есть Главное в жизни, то оно, Главное, у всех и для всех: и для еврея, и для немца, и для американца, и для русского. Конечно, у каждого к этому Главному свой путь, личностный, отдельный, свой — у каждой личности, у каждой нации, у каждого народа, но в то же время и в конце-то концов, если правда, что есть Главное, есть Истина, есть Вечность, есть Бог, это — и единый, и общий, и всечеловеческий, и всемирный путь. Об этом говорят, к этому ведут все религии мира, вся мировая история и, может быть, лучше всех наш Пушкин: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна». «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей». Ведь веленье это — одно для всех, воля эта — одна для всех, для всего человечества. Но услышать это дано только каждому в отдельности, только каждому самому по себе, услышать и исполнить — личности — всемирное. Только в этом, наверное, и спасение: «Да будет воля Твоя, а не моя. Господи!»
Но и собственную историю нельзя переделать, от истории нельзя отказываться. Да и незачем. Она, история русская, вся в наших костях да крови, если кто и не знает ее, а мы все сегодня плохо ее знаем, все равно с самого рождения в генах своих ее носим, никуда от нее не денешься, ни от царей, ни от бунтарей, ни от Ивана Грозного, ни от Стеньки Разина, Сергий Радонежский и Малюта Скуратов, протопоп Аввакум и Чаадаев, Петр Первый и Лев Толстой, семья Аксаковых с верой в особый, русский путь, и Маяковский, мечтающий о том, «чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитьем»,— вот они какие разные, а все русские люди, и мысли их и идеи — русские, и самые крайние из них — как раз самые русские. И за революцией нашей, великой и русской, стоят благословляющие и вдохновляющие фигуры прекраснейших и благороднейших русских людей — от Радищева и декабристов до лейтенанта Шмидта. Она была, ее не перечеркнешь, не забудешь. Мы приняли ее наследство, страшное, темное, безобразное, но нам не избавиться от него. Это не только недостойно, безответственно, безнравственно, но, в конце концов, и безграмотно, противоестественно, просто невозможно. Наш долг, наша задача — пока еще не поздно, покаяться во всех ужасных, непростимых грехах революции, государства, своих собственных (а их у каждого немало), исправлять ошибки революции, искупать ее преступления, не словами, а поступками, делами, трудом искупать, преобразовывать ее (это прекрасное, любимое слово — «преображение») согласно с тем велением, с той волей, с тем зовом, которые верующий человек определил бы как Божьи для того чтобы вместе с ней, искупленной и преображенной, обновленными и просветленными вернуться в божественное лоно мирового человечества. И молиться. И верить. И любить.
